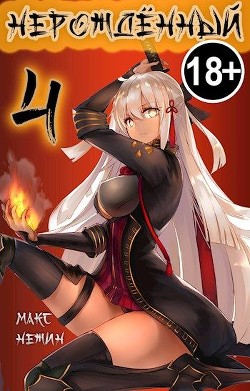Кажется, с моей головой что-то было не так. Я не ощущал ни грусти, ни страха. Все тело покрылось потом, тонкая белая юката, в которой я спал, прилипла к спине, и я отчаянно дрожал. Солнце пекло. В голове появлялось невыносимое ощущение гари, я понимал, что скоро упаду в обморок. Во рту был такой мерзкий привкус, будто меня вот-вот стошнит.
Временами я открывал глаза, тупо смотрел на ярко освещенную землю и сплевывал. И лишь когда я понял, что мы идем не к доктору, а в полицейский участок, сердце мое заколотилось. Но стоило нам подняться на крыльцо, как я внезапно успокоился. Я уставился на грязный пол, ощущая себя то ли персонажем сна, то ли героем детектива. Вдруг кто-то грубо окликнул меня сзади. Я пораженно оглянулся: это был следователь. С криком и бранью он накинулся на людей из толпы, которые хотели проникнуть в участок вслед за мной. Кажется, там были мои знакомые, не помню, кто именно.
Меня усадили на деревянную пейку («скамейка» на местном диалекте) в узкой комнате. Сержант со следователем принялись задавать вопросы. Но голова раскалывалась, и я не помню, что именно говорил. Они твердили «ты врешь, ты все врешь», а я отвечал «нет, я не вру, не вру».
Вскоре вошел полицейский инспектор Тани, инспектор-крокодил, так звали его в Ногате. Он сказал: «Твою мать убили», чем застал меня врасплох. Пытаясь сдержать переполнявшие меня чувства, я подавлял рыдания и только утирал слезы. Инспектор Тани некоторое время молчал, а затем произнес: «Не может быть, чтобы ты ничего не знал!» — и бросил что-то прямо передо мной на грязный деревянный стол. Это был фиолетовый шнурок обисимэ [79] с металлической подвеской в виде баклажана, обычно мама клала его у изголовья. Мама рассказывала, что носила этот шнурок с тех пор, как ушла из дома…
Я не понимал, что происходит. «Ты задушил свою мать!» — отчеканил инспектор. Ужасные слова прозвучали как гром, и я склонил в недоумении голову. Я так разозлился, что невольно поднялся и уставился на инспектора. Но тут у меня опять невыносимо заболела голова, а к горлу подступила тошнота. Я оперся руками на стол и задрожал, сдерживаясь из последних сил, однако по моим щекам заструились слезы досады и печали.
Инспектор Тани принялся ругать меня на все лады. Местные хулиганы из шахт трусливо звали его за глаза «дьявол» или «крокодил». Но я не боялся инспектора и молча слушал его выкладки. Он объяснил, что тем утром, около половины девятого, к маме, как обычно, пришли несколько учениц, но двери были заперты, о чем они дали знать хозяину. Тот окликнул маму с черного хода, однако ему никто не ответил. Тогда он вошел внутрь и заметил белые ноги, болтающиеся над лестницей, которая вела на кухню. Напуганный и бледный, он сразу же помчался в полицию. Пришли полицейские. Они сразу заметили, что засов, на который запирается дверь черного хода, валяется на полу. Полицейские собирались осмотреть второй этаж, но увидели маму: в одной сорочке, она висела в петле из пояса оби, перекинутого через верхние перила. Я же, ни о чем не подозревая, спал в это время, раскинувшись на полу…
Тело мамы обследовали. Оказалось, что ширина борозд на шее не совпадает с шириной пояса. К тому же постель ее оказалась в беспорядке. Было похоже, что маму сначала задушили, а потом уж повесили, чтобы инсценировать самоубийство. Однако следов проникновения в дом обнаружено не было. Из этого следовало только одно: я — главный и единственный подозреваемый.
Затем следователь сказал, что, судя по количеству отметин на шее, маму душили долго и мучительно, а значит, находясь рядом, я бы непременно проснулся. Потом мне стали задавать вопросы. «Почему это ты проспал на три часа больше обычного? Собирался всех обмануть, имитировав суицид? Быть может, есть женщина, которой ты нравишься? Или положил глаз на хорошенькую ученицу и поссорился из-за этого с матерью? Или хотел ее денег? Сколько ты получал на карманные расходы? Да и твоя ли это мать, вообще? А может, ты выдаешь любовницу за мать? Признавайся!» И прочий бред…
Голова моя будто онемела. Понурившись, я размышлял, может ли человек убить кого-то против собственной воли. Неужели я, не просыпаясь, прикончил собственную мать?! Со словами «подумай-ка над этим!» меня поместили в камеру предварительного заключения.
Я проспал весь день и всю ночь и ничего не ел. К завтраку, что принесли на следующее утро, я тоже не притронулся, потому что болела голова. Но потом я проголодался и с большим аппетитом пообедал (головная боль к тому времени утихла). А вечером ко мне пришла женщина — один в один моя мама! Это была ее сестра, моя тетя, которую я видел первый раз в жизни. Она задала мне тот же вопрос, что и вы (доктор В.): «Тебе что-нибудь снилось?» Однако я ничего не сумел вспомнить и ответил «не знаю». Тогда я не понимал, что преступник усыпил меня с помощью эфира…
На следующий день пришли вы и мой учитель из средней школы, Камати-сэнсэй. Еще через день появился человек из суда и стал задавать вопросы. Он вел себя так добродушно, что мне показалось, будто меня вот-вот выпустят на свободу. Я так хотел попрощаться с мамой, но позавчера, когда я вернулся домой, ее тело уже предали огню… У меня даже не осталось ни одной ее фотографии. Как же горько, что я никогда ее не увижу! Правда, тетя сказала, что заберет меня завтра с собой в Мэйнохаму, где живет моя двоюродная сестра Моёко. Возможно, с ними мне будет не так одиноко…
Больше всего меня увлекают иностранные языки, и я обожаю читать романы, особенно По, Стивенсона и Готорна. Хотя все говорят, что это старье… Недавно я решил, что стану изучать психиатрию в университете. Раньше я хотел заниматься филологией, чтобы, выучив иностранные языки, отправиться вместе с мамой на поиски отца… Но мама умерла, так ничего и не рассказав о нем. По правде говоря, я очень подавлен и не знаю, кем быть… Не то чтобы я не любил японский или камбун [80]… но я не занимался ими после окончания средней школы. Еще я люблю историю и естественные науки, а вот география, физика и математика мне совсем не нравятся. Но хуже всего у меня с пением, хотя я люблю музыку. От хорошей западной музыки (у меня есть пластинки) я получаю такое же удовольствие, как от знаменитых картин. Когда мама бывала в приподнятом настроении, она пела народные песни вместе с ученицами, и мне очень нравилось их слушать (краснеет).
До сей поры я ничем не болел, и мама тоже никогда не болела чем-то серьезным.
Схожу к Камати-сэнсэю, хочу поблагодарить его за то, что навестил меня в полицейском участке.
Документ № 2. Беседа с Яёко Курэ, теткой Итиро Курэ.
Время и место те же. Итиро Курэ вышел.
Это просто сон какой-то… Разумеется, Итиро — сын моей младшей сестры. Глаза и нос — ее, а голос как у нашего отца…
Несколько поколений наших предков выращивали рис в Мэйнохаме. Не думаю, что уж очень давно. Мама умерла совсем рано, а папа — на Новый год, когда мне было девятнадцать. Тогда мы с Тисэко остались вдвоем (смотрит на табличку с посмертным именем). В конце того же года я вышла замуж за Гэикити, его тоже уже нет в живых, а сестра исчезла, оставив мне такое письмо: «Я уехала в Токио заниматься вышивкой и рисованием. Замуж выходить не собираюсь, не волнуйся». Это было на новый, 1907, год, с тех пор мы и не виделись. Потом я слышала, будто ее встречали в Фукуоке, но как знать…
Она и правда любила вышивку и рисование. Как и говорил Итиро, моя сестра была очень смелой и сильной духом. В семнадцать лет она выпустилась из префектуральной школы, где была первой ученицей. Если уж она за что-то бралась, то увлекалась этим до безумия. Романы читала запоем, постоянно рисовала. А вышивкой она заинтересовалась еще в начальной школе. Бывало, засидится на веранде до глубокой ночи, все не может оторваться от работы! Сестра любила вышивать остатками хлопковых ниток картины, которые, она срисовывала с храмовых фусума [81].